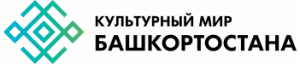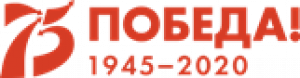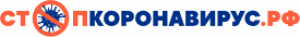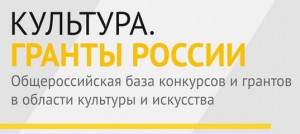Это Глюк…
Это Глюк…
То, как мы видим общую картину классической музыки сегодня, довольно сильно отличается от того, как всё выглядело на самом деле в далёкой исторической реальности. Статус великих и гениальных композиторов имели совсем не те, кого мы сегодня так называем.
К примеру, в 18 веке “великим Бахом” был не Иоганн Себастьян, а его сын Карл Филипп Эммануил.
Имя Моцарта тоже не сияло так ослепительно, как сейчас (его звезда взошла и достигла зенита уже посмертно – в 19 веке). В его эпоху главным оперным гением европейского масштаба считался Кристоф Виллибальд Глюк.
Он не только считался, он им и был. По крайней мере, “наша эра” в жанре оперы и балета началась именно с него.
Многие вещи, сегодня для нас совершенно естественные, придумал именно Глюк. То, что в балете есть сюжет, а в опере музыка прямо выражает человеческие эмоции, что увертюра предвосхищает последующее действие, что певцы не только поют, но и играют свои сценические роли и многое-многое другое – это всё результат усилий Глюка.
Правда, придумал и воплотил это всё он не один, а вместе с тремя своими единомышленниками-итальянцами (этот кружок реформаторов в Вене был чем-то вроде нашей “могучей кучки”). Среди них был либреттист и главный генератор идей Раньери де Кальцабиджи, балетмейстер Гаспаро Анджолини и директор Венских театров граф Дураццо. Но именно Глюк реализовал эти идеи на практике, причём, последовательно в двух странах: Австрии и Франции.
Его реформа была культурной сенсацией, которую горячо обсуждали не только в музыкальных, но также в философских и литературных кругах. Можно сказать, что Глюк изменил оперное сознание своей эпохи.
Понятно, что задачи такого уровня по плечу только незаурядным людям.
Глюк был сыном лесника, но продолжать семейное дело не хотел, и в 15 лет, поссорившись с отцом, ушёл из своей деревни в Прагу с котомкой за плечами и варганом в кармане. Он хотел быть музыкантом.
Ещё в родной деревне он легко освоил все инструменты, которые были в зоне досягаемости: орган, скрипка, виолончель, флейта, варган (за неимением лучшего). Впоследствии он даже выступал в концертах, играя на стеклянных бокалах, наполненных водой.
Глюк прошёл суровую жизненную школу и закалил в разнообразных испытаниях свой на редкость твёрдый характер. Все ступени своей творческой карьеры он прошёл честно и последовательно, укрепив свои профессиональные позиции сначала в Италии, потом в Лондоне, далее в Праге и, наконец, к сорока годам, уже в статусе прославленного оперного композитора он обосновался в Вене.
Здесь Глюк нашёл себе единомышленников (о них сказано выше) и начал свой крестовый поход против старой итальянской оперы, которая превратилась к этому времени в костюмированное шоу кастратов и примадонн-сопрано.
Эта борьба шла с переменным успехом (нет ничего труднее, чем победить привычки публики), но Глюк, если и отступал иногда из тактических соображений, никогда не сдавался.
Уже в преклонном по тем временам возрасте (60 лет) он перенёс поле оперных экспериментов в Париж, где его взяла под своё крыло королева Мария Антуанетта.
Мария Антуанетта знала Глюка с самого детства – он несколько лет был её учителем музыки ещё в Вене. Она испытывала к Глюку благодарность и очень тёплые чувства и обеспечила его в Париже личной поддержкой и большой пожизненной пенсией.
Во Франции оперы Глюка имели грандиозный успех. Все понимали, что это уже не просто забава для меломана, а настоящая музыкальная драма, революционный прорыв в искусстве.
Имя Глюка было у всех на устах, парижские художники писали его портреты, а знаменитый Жан-Антуан Гудон изваял его бюст (реалистично изобразив изрытое шрамами от оспы лицо композитора). На всех изображениях Глюка видна харизма его личности: простое лицо не баловня славы, а пролетария оперного труда, вдохновенный и умный взгляд.
За Глюка стояла так называемая “прогрессивная общественность” Парижа, но другая половина публики восстала против “чеха” (ещё его называли “немцем”), который приехал во французский оперный монастырь со своим уставом.
Кстати, национальная принадлежность Глюка – сложный вопрос. Он родился в Баварии, вырос в Чехии, большую часть жизни прожил в Вене. Поэтому иногда его называют немецким композитором, а иногда чешским или австрийским. Но надпись на его могиле начинается словами: “Здесь покоится честный немец…”
Начались шумные баталии в прессе – практически, оперная война (она известна в истории музыки под названием “войны глюкистов и пиччинистов” – по имени итальянского композитора Никколо Пиччини, специально приглашённого в Париж, чтобы составить музыкальную оппозицию Глюку).
Но Глюка напугать было непросто. Он ставил свои революционные оперы, требуя от музыкантов совершенного звучания: донимал оперный оркестр бесконечными репетициями и воевал с капризными звездами парижской сцены насмерть, ломая их апломб и заставляя подчиняться своей воле.
Выражался он прямо. “Это ни к чёрту не годится!” – кричал он на оркестрантов королевской оперы. А по поводу верхних нот одного прославленного парижского тенора отпустил на репетиции такой комплиман: “Даже в аду так не орут!”
Жена увозила его из театра мокрым до нитки и истощённым до обморока. В конце концов на одной из репетиций его хватил удар (инсульт).
Последние годы, уже больным человеком, Глюк провёл в Вене. К этому времени он был уже очень богат и знаменит на всю Европу не только как музыкант, но и как идеолог нового искусства. Он занимал номинальный капельмейстерский пост при дворе, получал большие гонорары и пожизненные пенсии сразу из двух источников (кроме королевы Франции Марии Антуанетты, ему платила пособие её мать – австрийская императрица Мария Терезия). У него был собственный дом (и не один) и выезд.
Постановки реформаторских опер Глюка всегда сопровождались аншлагами, и даже на репетициях сидело много заинтересованной публики: на все репетиции “Ифигении в Тавриде” ходил, к примеру, Моцарт.
К старости Глюк стал живой достопримечательностью Вены. Его статус был таков, что даже особы царских кровей (например, великий князь Павел Петрович – будущий российский император Павел I) не гнушались навестить его дома, чтобы справиться о здоровье и поговорить с выдающейся личностью.
Неплохой жизненный финал для сына лесника.
А как же Моцарт?
Моцарт был младше Глюка на 42 года. К тому времени, когда он приехал завоёвывать Вену, Глюк уже собрал все лавры и отошёл от дел. Но он сразу заметил успехи юного гения, искренне и горячо восхищался его “Похищением из сераля” и даже пару раз приглашал Моцарта с Констанцией к себе домой на семейный обед.
Кстати, когда Глюк умер и место капельмейстера придворной камерной музыки освободилось, его занял Моцарт. Но оклад ему назначили почти в три раза меньше, чем платили Глюку.